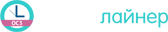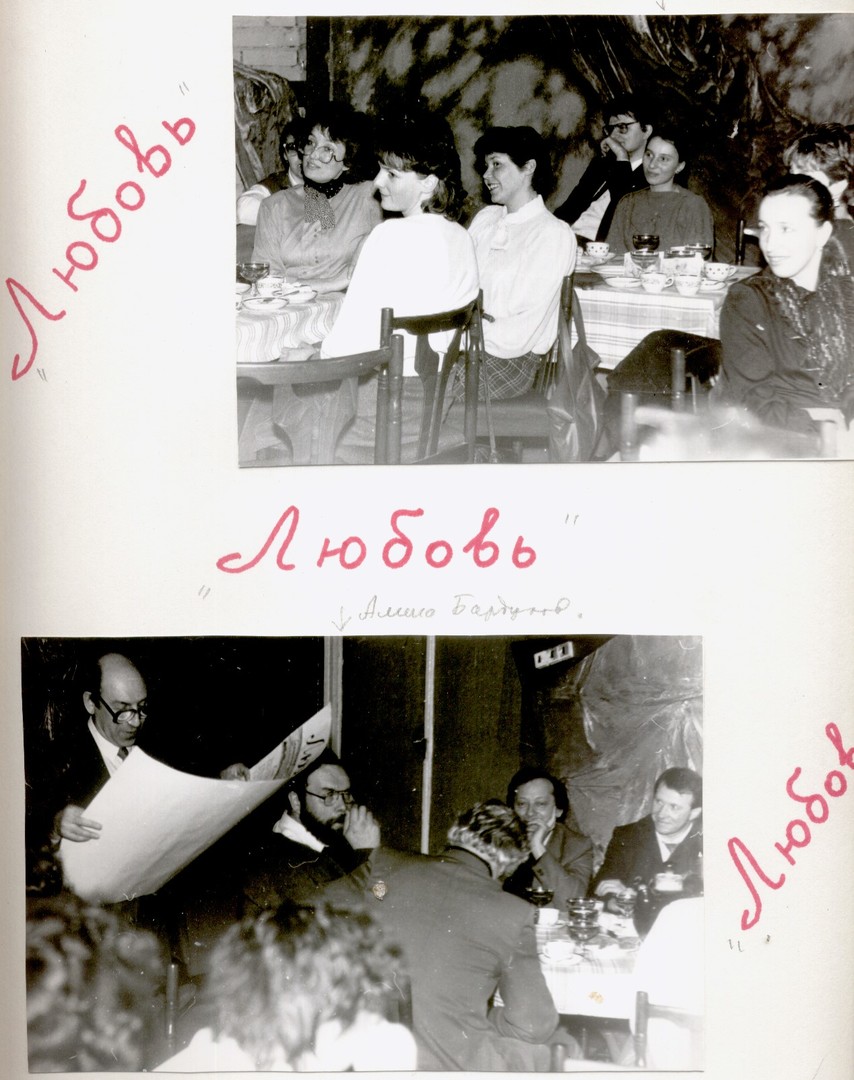Яковлев Григорий Наумович - учитель русского языка и литературы, завуч. Окончил Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина в 1953 году. Пришел работать в школу № 716 в 1967 году. Проработал в школе 42 года.
Учитель-словесникГригорий Наумович Яковлев человек глубоко интеллигентный, энциклопедически образованный и страстно влюблённый в русскую литературу. Это казалось невероятным, но в нём сочетались скрупулёзная педантичность завуча, серьёзность исследователя-литературоведа и вдохновенная горячность педагога - истинного...
Показать полностьюЯковлев Григорий Наумович - учитель русского языка и литературы, завуч. Окончил Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина в 1953 году. Пришел работать в школу № 716 в 1967 году. Проработал в школе 42 года.
Учитель-словесникГригорий Наумович Яковлев человек глубоко интеллигентный, энциклопедически образованный и страстно влюблённый в русскую литературу. Это казалось невероятным, но в нём сочетались скрупулёзная педантичность завуча, серьёзность исследователя-литературоведа и вдохновенная горячность педагога - истинного ценителя поэтического слова. Невозможно было поверить, что ему уже исполнилось 78.
В школе, где преподавал 42 года, он работал до последнего часа.
Григорий Наумович - человек скромный. Вот бы удивились его ученики, узнав о некоторых фактах биографии своего учителя!
Перед войной, в классе первом, он декламировал "Коричневую пуговку" Е. Долматовского (ту самую, что стала народно-дворовой песней) перед собранием полярников и удостоился похвалы знаменитого Петра Ширшова, будущего наркома Морфлота, который угощал юного чтеца водой с сиропом. Потом были два года эвакуации в Ташкенте. Была детская театральная студия, где началась дружба с будущим народным артистом России Игорем Ледогоровым. Однажды ребята-студийцы даже выступали вместе с артистами эвакуированного МХАТа. Были выступления и в госпиталях, участие в съёмках кинофильма "Два бойца", когда мальчишкам поручили укреплять колючую проволоку и поджигать дымовые шашки. Было краткое, но запоминающееся общение с Корнеем Чуковским, который, сжалившись над ребятишками, не имеющими денег на лотерею в Ташкентском зоопарке, купил им билетики, и маленький Гриша выиграл волнистого попугайчика.
После войны - учёба в известной московской школе N324, описанной в статьях Симона Соловейчика, который был классом старше (Григория Наумовича с ним всегда связывали добрые отношения). Потом - МГПИ (1953 г.) школа № 716 с 1967 г.
Более сорока лет Григорий Наумович Яковлев преподавал литературу. На его уроках поощрялась любая самостоятельная - пусть и наивная пока - мысль, царила атмосфера творчества, а диспуты, читательские конференции и литературные вечера - обычное дело. На эти уроки стремились попасть учителя из разных школ, а в одной из публикаций в центральной печати имя Г. Н. Яковлева стоит в одном ряду с именами учителей-новаторов Шаталова, Волкова и других талантливых российских педагогов. Неслучайно он в конце 80-х годов был членом рабочей группы по выработке концепции литературного образования в СССР при Госкомитете по народному образованию. Предложил внести революционные даже по тем временам изменения в школьные программы по литературе: убрать высказывания Ленина после каждого раздела учебника, ввести Библию в школьную программу. Тогда он подвергся резкой критике некоторых педагогических функционеров, но уже через три года Библию начали изучать в школе, а цитаты Ленина были изъяты из учебников.
Из интервью. 1995 г.Наталья Богатырёва
- "Начиная с 7 класса и до последних дней учёбы в школе я занимался с группой учеников нашего класса, отстававших по русскому языку" – это из институтской автобиографии. Выходит, призвание учительствовать вы ощутили ещё на школьной скамье?
- Меня всегда тянуло к обучению других. Действительно, и в школе, и позднее в институте я занимался русским языком и литературой с товарищами, составлял для них диктанты... В десятом классе решил изменить правила грамматики: например, избавиться от мягких знаков после шипящих в глаголах настоящего и будущего времени, как в своё время избавились от "ера". Свои предложения отправил в "Правду", а оттуда моё письмо переслали в Академию наук, и вскоре пришёл ответ за подписью очень известного тогда языковеда Шапиро со словами: "Вы совершенно правы, но то, что вы предлагаете, - часть реформы русского языка, которая в настоящее время по целому ряду причин нецелесообразна". Я был очень горд лестным отзывом профессора и решил серьёзно заниматься русским языком. Для этого было два пути: университет и пединститут. Я не был уверен, что поступлю в МГУ, а на литфак в МГПИ было 10 человек на место, но всё-таки больше шансов поступить. Правда, сначала я отправился в городской Потёмкинский пединститут, который размещался в обычном школьном здании. И был разочарован: те же коридоры и кабинеты, надоевшие за десять лет. На этом фоне Ленинский пединститут впечатлял уже одним своим вестибюлем. Однако радость от поступления омрачалась тем, что отец, начальник инженерной службы погранотряда в Бресте, хотел видеть меня только инженером и, узнав о моём решении, рассердился и перестал присылать деньги. Я жил тогда один и первый семестр перебивался кое-как: продал аккордеон, велосипед... Стипендия была жалкая: даже повышенная – всего 29 рублей. Хорошо, отец в конце концов смягчился и прислал денег...
- Вы закончили МГПИ в 53-м, годы учёбы пришлись на культ личности Сталина. Как жилось тогда студентам нашего института?
- Мы умели быть весёлыми и в те времена. Жизнь в институте кипела. Выпускали стенную газету, сочиняли вместе с моим другом, будущим писателем Виталием Коржиковым, песенки и сами исполняли их. Я пел: "Третья лекция идёт - Коржикова нету. На балконе он поёт...". А он подхватывал: "Делая газету!". Участвовал я и в спортивной жизни института. Был членом команды литфака по стрельбе, и однажды мы даже заняли первое место в институтских соревнованиях. Выступал на первой доске в соревнованиях по шахматам и шашкам между московскими вузами, был на уровне чемпиона института. Я помню, как мы громили историко-архивный институт и победили!
Наша группа - человек пятнадцать - часто собиралась в моей комнате в огромной коммуналке на Маросейке, где я тогда жил один. Помню, в день похорон Сталина вся группа осталась у меня ночевать. Мы четырнадцать часов стояли в очереди к гробу, но так и не увидели вождя народов... Время тогда было удивительное! Уже ощутимо было дыхание оттепели - и в жизни страны, и в жизни института.
- Как вы оказались на Сахалине?
- Мы на Сахалин по распределению поехали вместе: Коржиков, Штутин и я. Попросился я туда из романтических побуждений: хотелось увидеть дальние края, описанные моим любимым Чеховым... По пути на Сахалин мы остановились во Владивостоке, где Коржиков справил свадьбу с нашей студенткой Тамарой. Отправляясь на Сахалин, он сделал смелое заявление ректору Поликарпову. Тому самому Дмитрию Алексеевичу Поликарпову, который был секретарём Правления Союза советских писателей и являлся одной из самых мрачных фигур того времени. Виталий сказал ему: "Дмитрий Алексеевич, если Вы услышите, что Коржиков сбежал с Сахалина, то знайте, что он сбежал на Камчатку!". Он действительно побывает на Камчатке, совершив в качестве матроса кругосветное путешествие. Но раньше на Камчатку попал я: призвали в армию. Все мы на Сахалине работали в школе, но вскоре Виталий ушёл в газету, печатал там свои стихи. Он всегда хотел стать профессиональным поэтом и писателем - и стал им.
Кстати, в Александровске-Сахалинском я встретил своих товарищей по институту: Светлану Гордую и Виктора Бенсмана, которые необыкновенно заботливо ко мне отнеслись и очень помогли мне и в первые трудные дни, и в дальнейшем. И я им очень благодарен за то участие, которые они приняли в моей судьбе.
- Однажды вы рассказывали, что, будучи членом совета Научного студенческого общества, "песочили" за нерадивость Юрия Визбора.
- У меня до сих пор сохранился блокнот с записью: "Не сдают курсовые работы Визбор и Ряшенцев."
- Зато вы, как свидетельствует характеристика, занимались научной работой с удовольствием...
- Я был в семинаре у Арусяк Георгиевны Гукасовой, замечательного пушкиниста. Она меня многому научила. Я у неё курсовую писал, так она буквально три шкуры с меня драла. Зато я получил вторую премию на московском смотре лучших студенческих научных работ. Я до сих пор не утратил интереса к Пушкину, напечатав о нём несколько полемических статей в “Литературной газете”, журнале “Вечерняя школа” и в других изданиях. Гукасова учила, что называется, "делать науку", учила методике научной работы. Но в науку я так и не пошёл, хотя мне и предлагали поступать в аспирантуру. Степан Иванович Шешуков звал на кафедру советской литературы. Виктория Павловна Озерская – на кафедру методики преподавания русского языка. Но мне не нравилось ни то, ни другое. Вот если бы меня направили на кафедру литературы Х1Х века! Судьба распорядилась иначе: пошёл работать в школу. И это, наверное, правильно.
- Однако после армии в школу вы устроились не сразу.
- Действительно, не помогла даже блестящая характеристика из сахалинской школы. В отделах кадров были тогда огромные очереди, в школу попасть невозможно было, несмотря на нищенские ставки. Каждый день в течение восьми месяцев я ходил в отдел кадров роно, гороно, а пока устроился в Детгиз, где проработал два с половиной года. Мы готовили биобиблиографический словарь "Советские детские писатели", который вышел в 61-м году и содержал 60 моих статей. Кроме того, писал рецензии на рукописи, самотёком приходившие в Детгиз. Таких рецензий я написал 250. Потом была работа в вечерней школе, а когда её расформировали, мне предложили должность завуча в 716-й (теперь УВК N1811), где был умный и демократичный директор Лидия Васильевна Фейгенбаум. И вот уже больше тридцати лет я в этой школе.
- Неужели никогда не хотелось чего-то большего?
- Одно время я хотел заниматься редакторской работой. Пошёл к Бенедикту Сарнову (он тогда заведовал отделом в журнале "Пионер"), и он мне сказал: "В школе вы имеете дело с великой литературой, а здесь будете какие-то серенькие статьи дотягивать до приличного уровня. Неужели можно променять великую литературу на эту ерунду? Подумайте!" Я подумал... и остался в школе. И не жалею об этом.
- Судя по очередям в городском отделе образования, кандидатов в учителя в те годы было великое множество. Получается, профессия учителя была более престижной?
- Пожалуй. Но и в то время учителя были бедны, и в то время в девятой аудитории Главного корпуса МГПИ красовался лозунг, урезанный, как и сейчас: "Учитель должен у нас быть поставлен на такую высоту, на какой он никогда не стоял, не стоит и не может стоять в буржуазном обществе". А в оригинале, у Ленина, дальше было: "А для этого нужно работать и работать над повышением его материального уровня". Чуть-чуть материально улучшать жизнь учителей стали при Хрущёве. Он первый облагодетельствовал нас: повысил зарплату...
- В перестроечные годы вас знали как педагога-реформатора, последовательно и упорно выступающего за демократизацию школьной жизни.
- Я, наверно, всё-таки демократ, хотя это слово сегодня опорочено. Тем не менее, когда шла волна демократизации, я был на вершине этой волны: писал статьи в различные центральные и городские издания, поддерживал всё, что делается в направлении демократизации школы. Моя статья в "Московской правде" о Совете школы была одной из первых, появившихся в периодической печати на эту тему.
- В печати часто можно было встретить ваши статьи, ратующие за отмену школьных переводных экзаменов - больное место и учителей, и учеников.
— Это одна из самых приятных, хотя и самых трудных страниц моей биографии. Я опубликовал несколько больших статей в центральных газетах, и меня поддержали многие, в том числе мой друг Семён Рувимович Богуславский, который напечатал отклик в "Московской правде". Пришлось выдержать борьбу с крупными чиновниками, но борьба в конце концов увенчалась победой: обязательные переводные экзамены были отменены.
- А как вам работается в женском коллективе?
- Очень уютно. Мне с женщинами даже легче общаться, чем с мужчинами.
- Что для вас главное в педагогической работе?
- Наверное, главное — это всё-таки делать Человека, помочь формированию его души. Я понимаю, что полностью эту задачу не решить, но если я могу хоть что-то в этом направлении делать, то ради этого стоит работать. А ещё это развитие вкуса: литературного, эстетического. Это то, что называли человековедением - умение разбираться в жизни, в людях. Если я вижу, что ребята стали немножко добрее, - пока я их учу хотя бы — это радостно. Пожалуй, на большее я не претендую, не переоцениваю возможностей учителей. Думать, что мы можем целиком перевернуть то, что сложилось за много лет, - наверное, неправильно. Но сделать то, что в наших силах, всё-таки должны.
От политики я не ухожу (хотя хотелось бы), ведь в нашей стране жизнь всегда была политизирована. И литература с политикой в России связана больше, чем в какой-либо другой стране, - так было всегда. Поэтому на уроках я использую любую возможность для острого разговора. И литература мне очень в этом помогает. После изучения творчества Горького, например, я даю ребятам сочинение на тему "Дно жизни в начале и в конце ХХ века". И мои ученики учатся видеть исторические параллели и задумываются, а где же выход. Но я не даю готовых рецептов, а подсказываю направление мысли. Литература должна заставить думать и делать выводы. Мнение своё я всегда высказываю - учитель имеет право на собственную точку зрения. Но никогда не подавляю учеников и не снижаю оценку, если мнение ребят с моей точкой зрения расходится: только говорите, не молчите! Гораздо хуже, если человек затаит свои чёрные мысли, и они выразятся потом в поступках. Надо убеждать - в этом наше учительское дело. И я буду бороться: со всякой скверной мириться нельзя. Мы рискуем оказаться донкихотами, но жить тихо-мирно невозможно.
- Как вам удаётся, работая в школе, этом эпицентре страстей и разнообразных учительских интрижек, сохранять ровную и доброжелательную позицию?
- Чем дальше, тем более я склонен прощать людей. Я думаю, в этом есть святая правда. Ведь люди очень несовершенны. Конечно, я никогда не смогу оправдать злодеев, негодяев, убийц. Но за слабости людей по возможности надо прощать.
Интервью Н. Богатыревой
Скрыть
- 1995 г. Наталья Богатырёва. «СВЯТО ДРУЖЕСКОЕ ПЛАМЯ». Интервью с выпускниками Московского государственного педагогического института (МГПИ им.В.И.Ленина), Москва, 2002, издание 2 дополненное
- архив школы
Комментарии
Нет ни одного комментария.
Для загрузки данной ленты времени воспользуйтесь функционалом загрузки приложения "ОС3.Хронолайнер" версии 3.5 или отредактируйте вложенные файлы для уменьшения размера ленты.
Рекомендации